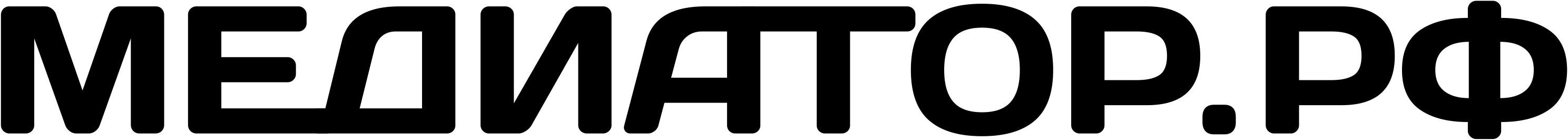Как только закончилась адаптация к новым условиям, я сразу начала свое увлекательное погружение в мир кросс-культурного взаимодействия. Тем более что и страна к этому очень располагает. Нидерланды — это супермультикультурное общество, в котором мирно сосуществуют представители более двухсот национальностей. Можно сказать, что это такой «международный хаб», где практически каждый человек говорит (помимо своего родного) на английском языке, что очень удобно для работы и жизни.
Моим первым шагом в мир кросс-культурности стало обучение на международной программе по бизнес-медиации в Academy of Legal Mediation у Manon Schonewille, а также последующая квалификация в International Mediation Institute (IMI). Это было только начало. Затем я стала членом международной организации Mediators Beyond Borders (MBB) и вошла в состав рабочей группы по развитию в Европе — MBB-Europe со штаб-квартирой в Гааге.
После была серия тренингов по кросс-культурной коммуникации, разрешению и профилактике конфликтов для международных компаний. Чувствую, что для меня это новый этап в развитии медиации. Теперь речь идет не об отдельных людях, а о целых компаниях — командах из разных стран и культур… И это невероятно меня вдохновляет!
Знакомясь с разными странами и культурами, я задумалась, что поможет развивать медиацию в России более эффективно? Ведь это просто потрясающий инструмент — очень полезный и экологичный. Кажется, что делается очень много, но результат не так очевиден. Мне стало интересно разобраться, с чем это может быть связано и какие у нас есть особенности по сравнению с другими странами, которые считаются лидерами в развитии медиации в мире.
Сравним особенности развития медиации в России, Нидерландах, США и Китае
Нидерланды
В Нидерландах медиация считается одной из наиболее развитых в Европе благодаря целой системе институтов и практик.
Во-первых, профессиональное сообщество объединено в Федеральную палату медиаторов — Mediatorsfederatie Nederland (MfN), основанную в 1993 году. Она ведет национальный реестр, утверждает кодекс этики и обеспечивает обязательное повышение квалификации. В настоящий момент в реестре зарегистрировано более 2 500 медиаторов [1]. При этом согласно исследованию 2024 года [2], для бизнеса имеет огромное значение наличие у медиатора такой регистрации в Федеральной палате.
Во-вторых, широко распространена практика соседской медиации (Buurtbemiddeling): программы действуют примерно в 80% муниципалитетов Нидерландов, ежегодно обрабатывается около 14 000 дел, и примерно в 70% случаев удается достичь полного соглашения.
В-третьих, значительное развитие получила медиация на рабочих местах (Arbeidsmediation). Согласно исследованию PBM 2024, трудовые конфликты составляют около 28% всех случаев медиации; при этом уровень успешности превышает 75%, а большинство дел разрешаются в течение 1–3 встреч, что делает этот инструмент крайне привлекательным для работодателей и кадровых служб.
США
США являются признанным мировым лидером в развитии медиации благодаря раннему институциональному оформлению и активному внедрению альтернативных процедур урегулирования споров.
Уже в 1947 году была создана Федеральная служба по медиации и примирению (FMCS), специализирующаяся на трудовых и коллективных конфликтах. Ключевую роль сыграли и академические центры, прежде всего Program on Negotiation (PON) при Гарвардском университете, где разрабатывались методики переговоров и медиативные практики, впоследствии ставшие мировыми стандартами.
Законодательное закрепление медиации в США началось после Национальной конференции по разрешению споров (Pound Conference, 1976), положившей начало движению ADR (Alternative Dispute Resolution). В 1990-х годах медиация получила обязательное внедрение в судебную систему через Civil Justice Reform Act (1990) и Alternative Dispute Resolution Act (1998), что сделало ее неотъемлемой частью федеральной юстиции. Сегодня медиация применяется как в трудовых и коммерческих делах, так и в судебной практике, а американские подходы к ее организации задают ориентиры для других стран.
Китай
Китай выделяется массовостью и эффективностью медиации: гражданские и семейные споры в большинстве своем решаются через медиацию без суда, особенно на уровне народных судов и местных центров медиации. Система сочетает традиционную конфуцианскую практику урегулирования конфликтов с современным законодательством, включая обязательные медиационные процедуры перед подачей иска в суд. В крупных городах функционируют профессиональные центры коммерческой медиации, а правительственные инициативы стимулируют обучение медиаторов и стандартизацию процессов.
Китай сыграл ведущую роль в создании Международной организации по медиации (МОМ / IOMed), учрежденной в мае 2025 года в Гонконге с участием 32 государств. МОМ стала первой в мире межправительственной структурой, ориентированной исключительно на мирное урегулирование международных конфликтов посредством медиации, что отражает стратегический подход Китая к глобальной дипломатии, основанный на диалоге и взаимном уважении.
Проанализируем культурные особенности России и сравним их с Нидерландами, США и Китаем
Культурные особенности предлагаю анализировать на основе двух признанных на международном уровне исследований бизнес-культур разных стран:
1. Карта культурных различий Эрин Мейер [3].
2. Рамка культурных измерений Хеерда Хофстейде [4].
Важные оговорки: эти исследования оперируют средними выявленными значениями (то, что присуще большинству в этой конкретной культуре и стране). Это значит, что никто не отменял влияния субкультур (поколенческой, региональной, корпоративной и пр.) и проявления индивидуальности. А следовательно, всегда найдутся люди, которые будут отличаться от данных исследования. Кроме того, исследования касались людей из монокультурного контекста — когда они не жили долго в других странах и имели родителей из одного культурного контекста.
Обратимся к Карте культурных различий (Эрин Мейер)
Карта культурных различий описывает восемь ключевых шкал, определяющих особенности межкультурного взаимодействия и влияния национальных культур на ведение бизнеса и управление командами:
1. Коммуникация: низкий контекст (ясность и точность формулировок, когда «зеленый — это зеленый») или высокий контекст (завуалированность и многослойность коммуникации, когда «зеленый — это цвет жизни и сочной весенней травы»).
2. Обратная связь: прямая критика (открытость и честность в негативных отзывах) или непрямая критика (осторожная подача критики между строк).
3. Лидерство: эгалитарное (равенство в отношениях начальников и подчиненных) или иерархичное (четкая вертикальная структура власти).
4. Принятие решений: через консенсус (групповое обсуждение и согласие) или индивидуально (решение принимает отдельный человек, как правило, начальник).
5. Доверие: через профессионализм (качество выполнения задач) или создание личного контакта и дружбы (качество отношений).
6. Поведение в конфликте: конфронтационное (активное выражение разногласий) или избегающее (желание замалчивать конфликт).
7. Отношение ко времени: пунктуальное (строгое соблюдение сроков) или гибкое.
8. Отношение к паузам: высокий или низкий комфорт с тишиной в разговоре (неопределенностью).
Если посмотреть на Россию в контексте исследования Эрин Мейер, то мы увидим такую картину (см. Рис. 1):

Рис. 1 Характеристики культуры России согласно исследованию Эрин Мейер (Карта культурных различий)
Что означает такое положение России на осях? Давайте проанализируем шесть основных осей, часть из которых может выступать барьером, а часть — ресурсом в развитии медиации.
-
Барьер: Россия ближе к высококонтекстной культуре. Мы не привыкли четко и ясно говорить о своих потребностях, интересах и целях. Мы говорим о них очень абстрактно или ожидаем, что окружающие люди должны сами догадываться о том, что нам действительно важно. Эта особенность создает трудности в коммуникации и часто приводит к обидам и конфликтам. При этом и в самой процедуре медиации сторонам сложно говорить прямо, формулировать варианты, предлагать понятные решения.
-
Барьер: слишком прямая негативная связь. Часто мы «рубим правду-матку» прямо в лицо, можем переходить на личности, давать непрошенные оценки. Эта особенность создает дополнительное напряжение в коммуникации и ведет к конфликтам. Если стороны и приходят в медиацию, они часто не стесняются в своих формулировках и тем самым могут эскалировать конфликт даже в присутствии медиатора.
-
Барьер/ресурс: иерархическая система лидерства. Для нас важно наличие авторитета и системы подчинения. Медиатор часто может вызывать доверие исключительно, если он обладает должным опытом, профессионализмом, статусом и пр. Просто фасилитатор, который задает «правильные вопросы» не вызывает доверия и воспринимается как «третий лишний».
-
Барьер: принятие решений «сверху — вниз». Мы не привыкли принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию. Часто мы ожидаем, что придет «начальник» и все решит. Мы боимся, что за неправильно принятое решение «начальник» может «наказать». Это приводит к тому, что сотрудники российских компаний, приходя на процедуру медиации, часто ожидают, что им дадут готовое решение, и не желают сами это решение принимать и брать ответственность за его реализацию.
-
Барьер/ресурс: доверие на основе отношений. Мы ценим личные отношения гораздо больше, чем качество выполняемых задач. С одной стороны, мы стремимся сохранять отношения, и это может стать хорошей базой для конструктивного диалога при разрешении конфликта и проведении процедуры медиации. С другой стороны, «фаворитизм» в бизнесе способен стать «бомбой замедленного действия» и поводом для серьезных конфликтов.
-
Барьер: конфронтационное поведение. Мы привыкли конфликтовать и вступать в открытые конфронтации даже тогда, когда вопрос можно решить путем конструктивного диалога. Часто в конфликте вообще нет задачи договориться и найти решение. Есть задача идти до конца и «вместе в пропасть». Очевидно, что эта особенность не способствует повсеместному развитию медиации, поскольку процедура требует высокого уровня осознанности и желания договариваться.
Посмотрим, как культура России соотносится с культурами Нидерландов, США и Китая согласно исследованию Эрин Мейер
Нидерланды
Как видно на рисунке (см. Рис. 2), культуры России и Нидерландов практически противоположны.
Голландцы более четко и ясно изъясняются, без намеков и «второго дна». У них одна из самых «плоских» систем лидерства и взаимоотношений в команде, где руководитель выступает скорее как фасилитатор и модератор, а не как единственный, кто знает, как и куда нужно идти. Кстати, именно поэтому в Нидерландах распространен фасилитативный подход в медиации, где медиатор создает пространство для диалога и не проявляет ни жесткости в отношении процесса, ни оценочности в отношении существа спора.
Решения в Нидерландах принимаются через консенсус, а доверие возникает на основе качественно выполненных задач, а не дружеских отношений.
При этом есть две шкалы, где Россия находится рядом с голландцами (причем обе, что интересно, я отнесла к барьерам в развитии медиации):
-
Прямота негативной обратной связи (голландцы, наравне с русскими, считаются одними из самых грубых наций в мире).
-
Конфронтационное поведение.

Рис. 2. Соотношение культур России и Нидерландов, исследование Эрин Мейер (Карта культурных различий)
США
У России и США культуры тоже очень сильно отличаются (см. Рис. 3).
Американцы — самая низкоконтекстная культура в мире (в этом они обогнали даже голландцев): они говорят то, что хотят сказать, без метафор и сторителлинга. У американцев очень обтекаемая обратная связь (три положительных пункта на один отрицательный). У них более «плоская» система управления, они менее конфликтны и так же, как голландцы, доверяют на основе качества выполненных задач.
Единственное, где наши культуры схожи, это порядок принятия решений: «сверху — вниз». Американцы это обосновывают ценностью скорости в принятии решений и результат-ориентированным мышлением.

Рис. 3 Соотношение культур России и США, исследование Эрин Мейер (Карта культурных различий)
Китай
Очень интересно выглядят графики соотношения культуры России и Китая (см. Рис. 4). Здесь гораздо больше общего, чем различий.
Например, китайцы — одни из лидеров высококонтекстной культуры. Кстати, тут они делят пальму первенства с Японией, Кореей и Индонезией. Это значит, что у них многоуровневая коммуникация, передающая смысл больше через образы и контекст, чем просто словами. У них так же, как и в России, иерархическая система власти и порядок принятия решений «сверху — вниз». Как и в России, доверие в Китае формируется на основе качества отношений, а не задач (как у американцев и голландцев).
Единственные две шкалы, где мы очень сильно расходимся с китайцами, — это прямота негативной обратной связи и уровень конфликтности. В Китае даже простое «нет» в глаза может считаться грубостью, поэтому они отказывают через «я сделаю все, что смогу». Кроме того, они очень стремятся избегать конфликтов, сохранять гармонию, системные взаимосвязи и баланс, что является явным следствием влияния конфуцианства. Кстати, такой подход свойственен многим представителям Азиатского региона.

Рис. 4. Соотношение культур России и Китая, исследование Эрин Мейер (Карта культурных различий)
Посмотрим на соотношение этих культур с точки зрения другого исследования
Рамка культурных измерений Хеерда Хофстейде
Рамка культурных измерений Хеерда Хофстейде основана на масштабном исследовании, которое проводилось в подразделениях транснациональной корпорации IBM в период с 1967 по 1973 год в более чем 70 странах. Модель видоизменялась и дорабатывалась со временем, но наибольшую популярность получил вариант с шестью шкалами.
-
Дистанция власти (Power Distance Index, PDI): отражает степень, в которой общество принимает и ожидает неравномерное распределение власти.
-
Индивидуализм / Коллективизм (Individualism vs. Collectivism, IDV): показывает степень, в которой люди предпочитают действовать как отдельные лица, а не как члены групп.
-
Маскулинность / Феминность (Masculinity vs. Femininity, MAS): характеризует, насколько в обществе распространено стереотипно мужское (ориентация на достижения, соперничество) или женское (забота о других, сотрудничество) поведение.
-
Избегание неопределенности (Uncertainty Avoidance Index, UAI): уровень, на котором люди в культуре чувствуют себя неуютно в неопределенных и незнакомых ситуациях.
-
Долгосрочная / Краткосрочная ориентация во времени (Long-Term Orientation vs. Short-Term Orientation, LTO): характеризует ориентацию культуры на будущее, включая такие ценности, как настойчивость и бережливость, или на настоящее и прошлое, включая уважение к традициям и выполнение социальных обязательств.
-
Сдержанность (жертвенность) / Удовольствия, потакания желаниям (Indulgence vs. Restraint, IVR): степень, в которой люди позволяют себе следовать своим желаниям, импульсам, умеют наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие, иметь хобби, отдыхать.
Впоследствии шестимерная структура была скорректирована и появилась обновленная модель Минкова-Хофстейде, упорядочивающая культурные различия между современными обществами вдоль двух основных осей:
-
Индивидуализм / Коллективизм. В эту шкалу были включены элементы избегания неопределенности, дистанции власти, маскулинности / феминности, сдержанности / удовлетворения желаний.
-
Монументализм / Гибкость. Данный показатель представляет собой расширенную и усовершенствованную версию долгосрочной / краткосрочной ориентации. Обновленная модель Минкова-Хофстейде исключает этот показатель как нерелевантный. Нацеленность на долгосрочную или краткосрочную перспективу сильно зависит от уровня тревожности в обществе и, соответственно, от текущих событий. Поэтому далее я не буду останавливаться на этой шкале исследования.
Тем не менее, если мы взглянем на Россию в контексте изначальной шестимерной структуры Хеерда Хофстейде, то увидим такую картину (см. Рис. 5).

Рис. 5. Характеристики культуры России, исследование Хеерда Хофстейде
(Рамка культурных измерений)
Что означает такое расположение России на осях? Давайте проанализируем эти шесть осей, часть из которых может также выступать барьером, а часть — ресурсом в развитии медиации.
-
Барьер: одна из самых высоких в мире дистанция власти. Эта шкала перекликается со шкалами «Лидерство» и «Принятие решений» из исследования Эрин Мейер и говорит о том, что мы привыкли к наличию авторитетов и принимаем ситуацию, когда собственные действия ни на что повлиять не могут. Этим объясняется, что большинство конфликтов продолжает разрешаться в судебном порядке. Часто людям просто необходим судья/арбитр, который бы сказал, кто прав, а кто виноват, как правильно и как неправильно. В этом случае не возникает ответственности за принятое решение, даже если оно принято против тебя самого. Ведь это не ты его принял, а тот, кто «знает, как правильно».
-
Барьер: развитое коллективистское мышление. Нам свойственно «мы» и «наше», а не «я» и «мое» [5]. Быть индивидуалистом, думать о себе и своих выгодах часто считается эгоистичным. При этом для конструктивного решения конфликта необходимо уметь отделять себя от группы, определять свои потребности, интересы, цели и пр., а также осознанно обозначать и уметь отстаивать собственные границы. При растворении своего «я» в «мы» это сделать очень сложно.
-
Ресурс: феминность. В российском обществе развита забота о других и сотрудничество, что может быть очень мощным ресурсом для развития медиации.
-
Барьер: Россия — лидер по избеганию неопределенности. Это может проявляться в гиперконтроле, повышенном напряжении общества и тревожности, нетерпимости к переменам, а также «чужим/иным/непонятным». Медиация — это одна сплошная неопределенность. Это сама суть медиации. При хорошо проведенной процедуре стороны могут прийти к такому нестандартному и творческому решению, которое даже в голову не могло прийти до ее начала. Это многих и отталкивает от процедуры. Гораздо спокойней, когда есть суд, судья, закон, в котором черным по белому написано: если «А», то «В», и нет никаких сюрпризов, которые еще и от тебя зависят.
-
Барьер: мы одни из чемпионов по жертвенности и сдерживанию своих желаний. Мы не привыкли удовлетворять свои желания, заботиться о себе, не умеем отдыхать и получать удовольствие от жизни. Постоянные ограничения ради «светлого будущего» и жертвенность приводят к замалчиванию проблемы и ее усугублению. Часто это является причиной конфликта и не способствует тому, чтобы люди активно искали возможность улучшить ситуацию и разрешить вопрос. Иногда лучший выход — это даже не суд, а жить в этом самом конфликте годами, страдать и ничего не делать для его разрешения.
Посмотрим, как культура России соотносится с культурами Нидерландов, США и Китая согласно исследованию Хеерда Хофстейде
Нидерланды
На рисунке (см. Рис. 6) мы опять видим, насколько разные культуры у России и Нидерландов. В Нидерландах низкая дистанция власти, у голландцев ярко выраженный индивидуализм, они нормально относятся к неопределенности, склонны к удовлетворению своих желаний и умеют получать удовольствие от жизни, не сдерживая себя.
Единственное, в чем наши культуры похожи, — это феминность. Для голландцев так же важны забота друг о друге и сотрудничество.

Рис. 6. Соотношение культур России и Нидерландов, исследование Хеерда Хофстейде (Рамка культурных измерений)
США
На рисунке (см. Рис. 7) мы видим, что, согласно исследованию Хеерда Хофстейде, у России и Америки нет ни одной похожей черты. Все показатели практически диаметрально противоположны.

Рис. 7. Соотношение культур России и США, исследование Хеерда Хофстейде (Рамка культурных измерений)
Китай
При этом, как следует из Рис. 8, с Китаем у России опять гораздо больше общего, чем с Нидерландами и США.
Наши культуры схожи с точки зрения дистанции власти, по уровню коллективизма, а также сдержанности. При этом в Китае более выражена маскулинная культура, и они очень комфортно чувствуют себя в неопределенности.

Рис. 8 Соотношение культур России и Китая, исследование Хеерда Хофстейде (Рамка культурных измерений)
Какие выводы можно сделать из этих двух исследований в отношении развития и продвижения института медиации в России?
В России вряд ли может прижиться подход, который пришел к нам из множества переведенных книг о медиации, написанных западными авторами. Здесь не получится просто скопировать. Слишком разные у нас культуры, менталитет народа. Поэтому этот замечательный инструмент должен адаптироваться под особенности нашего культурного кода. При этом, конечно же, мы можем брать лучшие практики из разных культур, но создавать будем свое. Да-да, у России свой путь и своя медиация.
Вот мои гипотезы о том, какое развитие медиации может подойти именно российскому обществу.
Что может повысить авторитет медиации и медиаторов в глазах населения и бизнеса? Что может дать больше предсказуемости и снизить тревожность от зашкаливающей неопределенности в глазах потенциальных участников процедуры медиации?
- Поддержка государства
Параллельно Минюст укрепляет экосистему АРС (цифровизация исполнения, связь с арбитражем), что повышает «проходимость» медиативных соглашений до стадии исполнения, и интегрирует медиацию в единую экосистему альтернативного разрешения споров.
Было бы крайне полезно реализовывать пилотные проекты по разрешению конфликтов внутри или между крупными (в том числе государственными) компаниями с помощью медиации. Дальнейшее публичное освещение и разбор этих кейсов на федеральных каналах и мероприятиях помогли бы поднять уровень доверия к медиации и медиаторам как профессионалам.
2. Создание Федеральной палаты медиаторов
В России давно обсуждается идея создания Федеральной палаты медиаторов как некоего национального единого органа, аналога адвокатской палаты. В мировой практике прямых аналогов немного, но есть сопоставимые национальные или квазигосударственные саморегулируемые организации медиаторов. Например, модели Нидерландов (Mediatorsfederatie Nederland — MfN) и Великобритании (Civil Mediation Council — CMC), где есть единый реестр, аккредитация и кодекс этики, признаваемые судами и государством.
Требования, предъявляемые в Нидерландах к медиаторам, которые находятся в реестре MfN, на мой взгляд, для России слишком жесткие (как минимум, на начальном этапе). При этом часть точно можно использовать для обеспечения и гарантии качества производимых медиативных процедур. Ключевым тут является то, что есть один реестр медиаторов, единый кодекс этики медиатора и стандарт проведения процедуры, а также — что все программы обучения медиаторов в стране должны соответствовать одному образовательному стандарту.
Для того, чтобы быть включенным в MfN-реестр, медиатор в Нидерландах должен:
-
Окончить MfN-аккредитованную базовую программу по медиации.
-
Сдать экзамены: письменный теоретический (50 тест-вопросов) и практический (живая учебная медиация или запись).
Для того, чтобы оставаться членом MfN, медиатор в Нидерландах должен:
-
Вести практическую деятельность (минимум 9 медиативных дел за каждые три года, минимум 36 контакт-часов в сумме). При этом минимум 2 дела в год (в сумме как минимум 8 контакт-часов за год), из 9 дел минимум 3 должны быть завершены письменным соглашением, не более 3 из 9 дел могут быть в комедиации).
-
Непрерывно обучаться и повышать свою квалификацию (Permanente Educatie, PE). Нужно набрать 48 PE-очков за каждые 3 года.
-
Участвовать в интервизиях (форма коллегиального профессионального взаимодействия). По ним нужно набрать минимум 18 PE-очков: минимум 3 встречи по 2 часа в год.
-
Участвовать в периодической оценке качества равными (Peer review): обычно 1 раз в 3 года проводится визит / аудит равным коллегой, с отчетом, рекомендациями и выводами.
-
Иметь адекватную страховку профессиональной гражданской ответственности с покрытием для деятельности медиатора.
-
Соблюдать регламенты и этику: обязательным является соблюдение MfN-Mediationreglement и Gedragsregels (Code of Conduct); нарушения могут привести к дисциплинарным мерам и исключению из реестра.
Для укрепления доверия к институту медиации и повышения его авторитета важно развивать международное сотрудничество с признанными международными структурами, а именно с International Mediation Institute (IMI) и Mediators Beyond Borders (MBB). Тем более что там сейчас открыты двери для участия России. Этим просто нельзя не воспользоваться.
Важно учитывать международный опыт при создании федеральной палаты медиаторов, единого кодекса этики и стандартов (как в отношении обучения медиаторов, так и в отношении проведения процедуры медиации). Для этого можно и нужно создавать рабочие группы с участием коллег-медиаторов из разных стран и выстраивать аполитичный и наднациональный диалог по обмену опытом и лучшими практиками.
Кроме того, в контексте развития международного взаимодействия Россия может выступить инициатором создания Евразийского Центра медиации (ЕАЦМ) на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Задачами такого ЕАЦМ могут стать:
-
Обеспечение единых стандартов подготовки медиаторов и проведения процедуры медиации.
-
Ведение единого реестра медиаторов, которые будут действовать по согласованным стандартам на всей территории ЕАЭС.
-
Исполнение медиативных соглашений на всей территории ЕАЭС.
Основной задачей ЕАЭС является формирование общего экономического пространства со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Поскольку Союз уже координирует экономическую политику в таких сферах, как промышленность, транспорт, энергетика и цифровизация, логичным шагом становится институционализация медиации и арбитража как базовых механизмов разрешения трансграничных споров.
Такая инициатива России позволила бы укрепить собственные правовые инструменты интеграции и на равных вести диалог с другими международными структурами, включая IMI и Международную организацию по медиации в Гонконге.
4. Создание Евразийской модели медиации
Принимая во внимание особенности культурного кода России, ее отличия и сходства с азиатской и западной моделями медиации, Россия может выступить с инициативой создания и развития Евразийской модели медиации. Эта модель может рассматриваться как синтез азиатской и западной моделей, с учетом исторического, культурного и правового контекста стран ЕАЭС.
Евразийская модель медиации может сочетать гибкость и уважение к отношениям (азиатская традиция) с юридической определенностью и институциональной поддержкой (западная практика), что делает ее особенно подходящей для интеграционных процессов в ЕАЭС и для продвижения российской модели медиации на международной арене.
Кроме того, в основу Евразийской модели медиации может быть положена теория функциональных (живых) систем (или как ее еще называют — биокибернетика), разработанная Петром Кузьмичом Анохиным, выдающимся советским физиологом, академиком АН СССР, учеником И. П. Павлова.
Теория функциональных систем Анохина имеет прямое прикладное значение для медиации. В ее основе лежит идея целеустремленности: система формируется и функционирует ради конечного полезного результата (цели). В медиации это соответствует целеориентированному подходу, где медиатор помогает сторонам выстраивать взаимодействие не ради фиксации формального компромисса, а ради достижения состояния, удовлетворяющего индивидуальные и общие цели участников и сохраняющего систему их отношений.
В перспективе развития Евразийской модели медиации теория Анохина может служить методологическим основанием: она позволяет рассматривать конфликт как функциональную систему, которую можно трансформировать из деструктивной в конструктивную, обеспечив долгосрочную устойчивость взаимодействия сторон и интеграцию правовых, культурных и социальных факторов.
5. Корпоративные службы медиации
Развитие корпоративной медиации через работодателя в России обосновано как культурными особенностями, так и практическими запросами бизнеса. По Хофстейду, Россия характеризуется высокой дистанцией власти и коллективизмом, что делает для сотрудников естественным решением обращаться к «старшему» — работодателю или руководителю — для урегулирования споров, а не выносить конфликт во внешние структуры.
Эрин Мейер отмечает, что в культурах с высоким контекстом коммуникации, куда относится и Россия, конфликты редко обсуждаются напрямую, поэтому медиатор в корпоративной среде может стать культурно приемлемым «переводчиком» между сторонами. В условиях сильного избегания неопределенности (Хофстейде: высокий UAI) формализация медиативных процедур через работодателя придает им предсказуемость и легитимность.
Кроме того, корпоративная медиация помогает снижать скрытые издержки конфликтов — текучесть кадров, стресс, снижение производительности — и демонстрирует социальную ответственность компании. Таким образом, именно работодатель в России способен стать естественным проводником культуры медиации, соответствующим национальному культурному коду и ожиданиям сотрудников.
В России уже есть первые пилоты по внедрению корпоративных служб медиации — в «Газпромнефть Экспертные решения» и «Ренессанс Страхование». Хочется надеяться, что эта практика будет набирать обороты и распространяться по всем компаниям страны.
6. Медиативное лидерство
Постепенное развитие медиации в российских организациях наиболее целесообразно осуществлять в том числе через формирование культуры медиативного лидерства, при которой примирительные практики становятся частью управленческой деятельности руководителей и специалистов отделов персонала. Включение медиативных подходов в корпоративные программы лидерского развития позволяет укреплять доверие в командах, снижать скрытые издержки конфликтов и повышать общую эффективность коммуникации.
Внедрять медиацию в бизнес-среде России следует мягко и ненавязчиво, поскольку многие компании не готовы открыто признать наличие конфликтов и склонны рассматривать их как угрозу репутации, а не как естественную часть жизни.
Вместо конфликт-менеджмента или управления конфликтами лучше говорить о медиативном лидерстве и включать обучение навыкам медиации (наравне с навыками коучинга и фасилитации) во все лидерские программы.
Культурные особенности России подтверждают правильность такого подхода. Согласно исследованиям Хеерда Хофстейде, Россия характеризуется высокой дистанцией власти и выраженным коллективизмом. Это обуславливает ожидание сотрудников, что именно руководитель возьмет на себя роль посредника и гаранта справедливости в конфликтных ситуациях. Одновременно высокий показатель избегания неопределенности формирует потребность в формализованной, но психологически безопасной процедуре урегулирования разногласий.
В модели Эрин Мейер Россия относится к культурам с высоким контекстом коммуникации, где открытые конфликты редко выносятся на обсуждение, а посредник необходим для их деликатного разрешения. Таким образом, внедрение медиативных практик через лидеров и сотрудников отделов персонала соответствует культурному коду России и создает условия для их органичного включения в повседневные бизнес-процессы.
7. Расширение форматов применения медиации
Это прекрасно, что в России есть отдельный Закон о медиации, и медиативное соглашение даже может быть удостоверено у нотариуса. И при этом есть случаи (и в моей практике их очень много), когда сторонам не нужны формальные документы. Им достаточно того, что их отношения улучшились.
В российском культурном контексте развитие альтернативных форматов медиации, например, конфликтологического консультирования, имеет особое значение. По Хофстейду, Россия демонстрирует высокий уровень коллективизма и ориентацию на межличностные связи, что означает: людям зачастую важнее сохранить отношения, чем зафиксировать юридический результат. Эрин Мейер относит Россию к культурам с высоким контекстом коммуникации, где больше ценятся неформальные договоренности, а прямые письменные фиксации могут восприниматься как избыточные. В условиях сильного избегания неопределенности (Хофстейде: высокий UAI) конфликтологическое консультирование дает сторонам психологическую предсказуемость и облегчает выход из конфликта без давления формальных процедур.
В российской практике часто достаточно того, что медиатор помог «разговорить» участников и улучшить атмосферу взаимодействия — формальные документы отходят на второй план.
Поэтому продвижение конфликтологического консультирования и других «мягких» форм медиации в России отвечает культурному коду и реальным потребностям людей.
Учет национального культурного кода необходим для успешного развития медиации в России. Только адаптация под условия российской действительности, а не бездумное копирование зарубежных практик, позволит сделать медиацию органичной частью отечественной правовой культуры и достичь ее эффективного применения.
Примечания:
-
Нужно учитывать, что Нидерланды (41 543 км²) по площади чуть меньше Московской области (44 329 км²). А если взять численность населения, то город Москва (около 13 млн человек) по населению отстает от Нидерландов (около 17,9 млн человек) всего на ~5 млн человек.
-
ONDERZOEKSRAPPORT | PBM vervolgonderzoek naar kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation onder advocaten en bedrijven in Nederland | Marc Simon Thomas, Eva Schutte, Manon Schonewille, Olga Korneeva | 2024.
-
Эрин Мейер — профессор практики менеджмента INSEAD, автор бестселлера «The Culture Map: decoding how people think, lead, and get things done across cultures» (2014) и соавтор книги «No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention» (2020). В 2017 и 2019 годах Мейер была признана Thinkers50 одним из самых влиятельных бизнес-мыслителей в мире.
-
Хеерд Хофстейде — голландский социальный психолог, признанный во всем мире за вклад в понимание культурных различий. Его масштабное исследование сотрудников IBM в более чем 70 странах стало основой современной межкультурной аналитики, соавтор книги «Cultures and Organizations: Software of the Mind».
-
В плане склонности к коллективизму или индивидуализму российское общество неоднородно. В 2019–2020 годах проводился репрезентативный телефонный опрос в 60 субъектах Российской Федерации. Его целью было исследование культурных различий между российскими регионами по измерению индивидуализм — коллективизм. По итогам этого исследования выяснилось, что наиболее высокий уровень индивидуализма наблюдается в Ярославской области (индекс 1,47), Москве (1,38) и Санкт-Петербурге (1,33). А самыми коллективистскими оказались мусульманские республики Северного Кавказа. Вывод, который сделали исследователи: индивидуализм в России растет с достатком населения и долей этнических русских. В свою очередь, коллективизма больше там, где население беднее и этнически более разнообразно.
Фото: из личного архива Анны Сорокиной