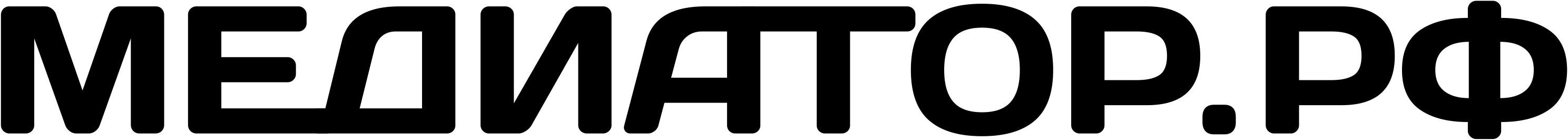Ольга Андреевна, для многих само понятие «экологическая медиация» звучит непривычно. Расскажите, что это такое?
Это особый, структурированный и добровольный процесс урегулирования споров, связанных с окружающей средой.

Медиатор здесь помогает участникам конфликта услышать друг друга, понять не только позиции («Мы против стройки!»), но и стоящие за ними истинные интересы и опасения (сохранение здоровья, чистого воздуха, привычного уклада жизни; гарантии рабочих мест, выполнение экологических норм) и, самое главное, совместно выработать взаимоприемлемое решение.
Экологическая медиация — это не линейный процесс с двумя сторонами конфликта. Она гораздо сложнее. Во-первых, в коммуникацию включают представителей всех заинтересованных сторон:
-
от граждан выбирают представляющих интересы населения людей с конструктивным типом мышления. Не просто обывателей, не разбирающихся в сути вопроса, а тех, кто имеет соответствующие образование или опыт. Это делается для того, чтобы эмоции не стопорили обсуждение;
-
от власти — чиновников, отвечающих за конфликтный вопрос в структуре госуправления;
-
от бизнеса — представителей, которые имеют ресурс влияния на процесс конфликта.
Важно помнить, за каждой из сторон следят и другие участники — пассивные, которых медиатор тоже должен держать в поле зрения. Например, сочувствующих, но не включенных в конфликт граждан, которые могут принять другую сторону и «свалиться в деструктив». Федеральную власть, которая требует исполнения ключевых показателей эффективности в конкретные сроки и без учета локальной специфики. Бизнес, которому в любой момент может надоесть эта «игра», а на смену может прийти менее договороспособный конкурент. И много чего еще.

Как и кому направляются приглашения на медиацию, кто чаще ее инициирует?
Обсуждение конфликтного вопроса инициируется с разных сторон, и здесь нельзя выделить какую-то лидирующую группу.
Структурировать процесс медиации в регионе помогает исполнительная власть: рекомендует состав участников (это не значит, что все они включаются по итогу в процесс), предоставляет переговорную площадку, рассылает приглашения, подключает медиа, чтобы процесс был максимально прозрачным и публичным. Общественность формулирует тему обсуждения. Бизнес готовит аргументы, организует презентационные мероприятия.
Медиатору важно вовремя реагировать на запросы, погружаться в суть возникающих вопросов, искать доводы и т. д. По сути, он аккумулирует знания всех сторон, разбираясь в тонкостях и деталях не хуже остальных. Когда я говорю «медиатор», я имею в виду целую команду, прорабатывающую вопросы на своем экспертном уровне и «выгружающую» данные в специалиста, который непосредственно общается со сторонами конфликта.
Переговорщик должен быть разносторонним, эрудированным, обладать серьезным уровнем экспертности и коммуникативными навыками.

Подписывается ли в процедуре медиативное соглашение? Или она завершается как-то иначе?
Поскольку представители от граждан и бизнеса не проходят процедуру выборов для представления интересов своих групп, то их полномочия документально не оформляются. А потому и какого-то итогового соглашения стороны подписывать не могут.
В процессе медиации могут составляться протоколы обсуждения, которые ведет секретарь, фиксирующий все этапы обсуждения (протоколы каждой встречи высылаются участникам для ознакомления).
Задача медиатора, по сути, не подписать документ между сторонами — это проблему не решит, — а снизить градус конфликта до состояния, когда выстраивается нормальный диалог и происходят обоюдные шаги навстречу друг другу. И такие примеры в нашей практике есть. Так, в Архангельской области в завершающей стадии новый мусоросортировочный комплекс. Да, там есть протестные пикеты, но в целом ситуация спокойная.
Здесь важно еще отметить, что в любой сфере есть отдельная категория граждан, которые участвуют в конфликте ради конфликта, а не в защиту какой-то идеи. И вот их вывести в конструктив — задача невыполнимая. Мы просто принимаем это как данность и работаем только с теми, с кем работать возможно.Медиация, даже если не приводит к полному согласию, снижает накал, учит диалогу, что критично для долгосрочного сосуществования на одной территории.

Почему Вы считаете медиацию в экологии полезной практикой?
Потому что экологические конфликты:
1. Высокоэмоциональны: затрагивают самое ценное — здоровье, среду обитания, будущее детей.
2. Комплексны: переплетают научные данные, экономические интересы, социальные ожидания, правовые нормы.
3. Долгосрочны: последствия решений (или их отсутствия) сказываются годами и даже десятилетиями.
4. Имеют высокую общественную значимость: могут быстро перерасти из локальных в региональные или даже федеральные кризисы доверия.
Нужно понимать, что развитие страны без строительства новых производственных объектов невозможно. Промышленные объекты требуют больших площадей: даже пресловутый искусственный интеллект работает благодаря целым «городам», которые обеспечивают его энергией.
С другой стороны, в голове у граждан прочно засела картинка швейцарских лугов с тихо пасущимися коровами и чистейшим воздухом. Этот образ несовместим с промышленными центрами, которые предстают в сознании людей в виде заводов образца начала прошлого века: грязными, чадящими монстрами, загрязняющими и убивающими все живое вокруг. Мы сталкиваемся каждый раз с одним и тем же выбором у населения: либо нетронутая природа, либо экономическое развитие со всеми вытекающими. И как будто бы нет другого варианта. Но ведь это не так, истина всегда посередине.
Медиация нужна, чтобы предотвратить эскалацию таких конфликтов, найти устойчивые решения, приемлемые для всех, снизить социальную напряженность и построить мосты доверия между бизнесом, властью и обществом в решении самых острых экологических вопросов. Она превращает энергию конфронтации в энергию созидания.
С помощью медиации можно показать людям, что современная экономика экологически ориентирована, а власти — что у людей есть вполне обоснованные страхи и переживания за малую родину.
Где, на ваш взгляд, экологическая медиация наиболее востребована сегодня в России? Какие задачи она призвана решать в этих точках?
Спектр применения очень широк, но есть несколько «горячих точек», где потребность ощущается острее всего.
Первая — это, безусловно, «мусорная реформа». Переход на новую систему обращения с отходами – это колоссальная трансформация, затрагивающая каждого. Неудивительно, что она вызывает массу вопросов, тревог и протестов: от выбора мест размещения объектов до формирования тарифов и контроля за операторами. Здесь медиация выступает как ключевой инструмент адаптации.
Медиация позволяет:
-
на понятном, доступном языке объяснить жителям сложные технические и экономические аспекты реформы;
-
организовать прямой диалог между операторами, региональными властями и активными гражданами по конкретным проблемам: например, по мониторингу работы полигона, организации раздельного сбора в микрорайоне, прозрачности отчетов;
-
снять необоснованные страхи, основанные на слухах или неполной информации;
-
выявить реальные недостатки и совместно найти пути их устранения в рамках действующих правил;
-
создать механизмы общественного контроля, устраивающие все стороны. Здесь речь идет не про «уговоры», а про поиск работающих решений в рамках реформы, которые снимут остроту конфликта.
Вторая критическая зона — экологические протесты. Важно понимать: за лозунгами о защите парка, реки или леса очень часто лежит глубокий пласт социально-экономических проблем — ощущение несправедливости, бесправия, отсутствие каналов диалога с властью, тревога за качество жизни, здоровье семьи, будущее территории. Экология здесь — лишь «вершина айсберга», самая видимая и мобилизующая часть.
Медиация позволяет добраться до корней проблемы, выявить истинные причины недовольства и работать уже с ними.
Экологическая медиация помогает перевести стихийный протест в конструктивное обсуждение будущего территории, найти точки соприкосновения между, казалось бы, непримиримыми позициями.

Есть ли другие инструменты, которые могут быть полезны для снижения остроты таких конфликтов?
Российское экологическое общество запустило бесплатную программу «Экошкола муниципального депутата». Именно к муниципальным депутатам в первую очередь приходят жители с жалобами на несанкционированную свалку, вырубку сквера, загрязнение речки или запах от ближайшего предприятия. Они оказываются в эпицентре, между накаленными ожиданиями избирателей и часто ограниченными ресурсами и полномочиями.
Усугубляет ситуацию банальная нехватка информации по довольно специфичной для народного избранника теме. «Мы простые люди, занятые в своей узкой сфере, и не можем знать всего», — говорит муниципальный депутат одного из районов, где планируется строить объект по обращению с отходами. Конечно, первая реакция – это страх, что рядом построят свалку. Страх, как базовая реакция выживания, мгновенно включает механизм защиты «бей — беги — замри». Возникают стихийные протесты в соцсетях, митинги и пикеты и так далее.
В экошколе дают не только базовые экологические знания в простой, понятной форме, но и навыки медиативного подхода. Мы учим:
-
как действительно выслушать и понять жителя;
-
как задавать правильные вопросы, чтобы выявить суть проблемы;
-
как организовать и провести конструктивную встречу между жителями, представителями управляющей компании или бизнеса;
-
как переводить эмоции в русло поиска решений;
-
как предотвращать эскалацию локальных конфликтов.
Ольга Андреевна, благодарим, что рассказали об инструментах работы с экологическими конфликтами.
Наш журнал читают не только Ваши коллеги-медиаторы (которые теперь могут задуматься о новой сфере в свой практике), но также представители бизнеса и власти. Какие слова для них считаете важным сказать в завершение?
Резюмирую кратко: конструктивный диалог возможен даже в самых сложных ситуациях. Взаимопонимание достижимо, практические решения существуют.
Фото: из архива Российского экологического общества